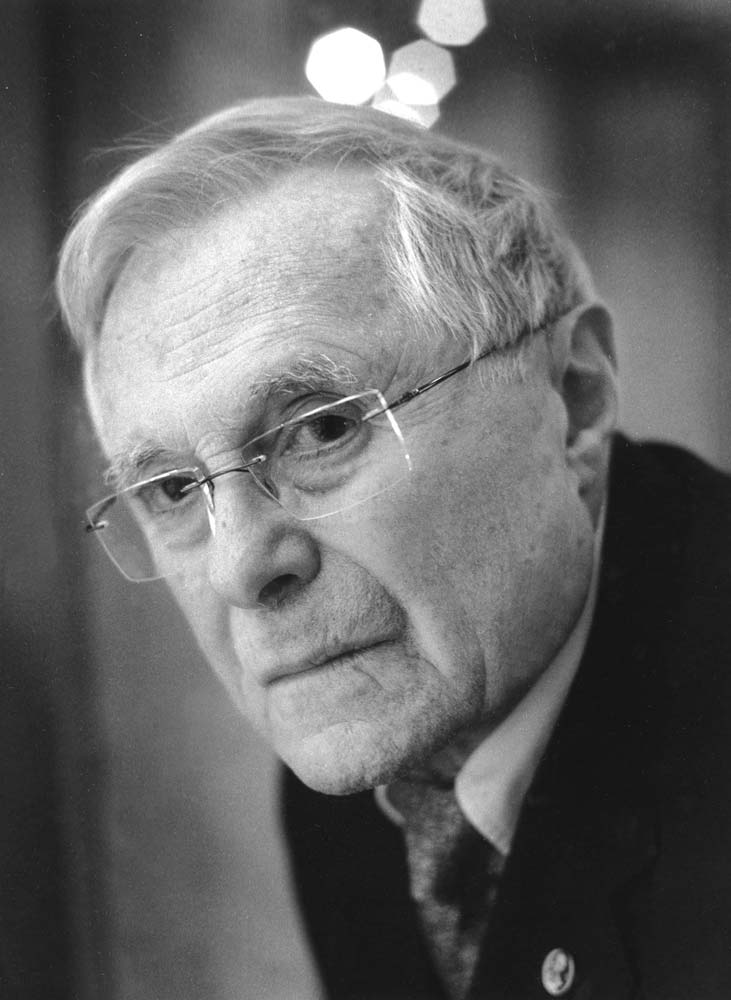 Демидовский лауреат в номинации «физиология» Михаил Островский родился в Ленинграде в семье музыканта легендарного джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова, будущего знаменитого композитора Аркадия Островского. Его песни «Пусть всегда будет солнце!», «Спят усталые игрушки», «Песня остается с человеком», «А у нас во дворе», «Вокализ» всем известны и всеми любимы. Михаил Аркадьевич Островский выбрал иное, не связанное с музыкальным искусством поприще, став выдающимся специалистом в области молекулярной физиологии и биофизики зрения, основателем научной школы.
Демидовский лауреат в номинации «физиология» Михаил Островский родился в Ленинграде в семье музыканта легендарного джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова, будущего знаменитого композитора Аркадия Островского. Его песни «Пусть всегда будет солнце!», «Спят усталые игрушки», «Песня остается с человеком», «А у нас во дворе», «Вокализ» всем известны и всеми любимы. Михаил Аркадьевич Островский выбрал иное, не связанное с музыкальным искусством поприще, став выдающимся специалистом в области молекулярной физиологии и биофизики зрения, основателем научной школы.Автор фундаментальных трудов по молекулярным механизмам зрительного акта, процессам старения сетчатки и хрусталика глаза, он также внес большой вклад в офтальмологическую практику, создав новое поколение светофильтрующих искусственных хрусталиков — интраокулярные линзы «Спектр».
Академик М.А. Островский заведует отделом фотохимии и фотобиологии Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и кафедрой молекулярной физиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Он заместитель академика-секретаря Отделения физиологических наук РАН и руководитель секции физиологии этого Отделения. В течение 16 лет был президентом Российского физиологического общества им. И.П. Павлова, более 35 лет — главным редактором академического журнала «Сенсорные системы». Михаил Аркадьевич Островский удостоен многих престижных премий, государственных и научных наград. А еще у него есть звание «Житель блокадного Ленинграда» и памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», которые для него особенно дороги — ребенком он пережил всю блокаду города на Неве.
Наша беседа с демидовским лауреатом началась с традиционного вопроса:
— Уважаемый Михаил Аркадьевич, как вы сделали свой профессиональный выбор?
— Школьником я увлекался биологией, и прежде всего меня интересовала высшая нервная деятельность. Иван Петрович Павлов в то время был у всех на слуху. Но одновременно я подумывал о поступлении на отделение журналистики филфака МГУ, поскольку мне хорошо удавались сочинения. Школу я окончил с золотой медалью. Отец сказал мне: «Сначала получи серьезное фундаментальное образование, а потом пиши, о чем хочешь». Я послушался отца и пошел на биолого-почвенный факультет МГУ, как он тогда назывался. Однако журналистику не оставил, писал под псевдонимом научно-популярные статьи и потом даже был принят в Союз журналистов СССР.
После окончания университета и аспирантуры в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР я остался там работать. Наша группа занималась исследованиями светочувствительного белка родопсина (от греч. rhodo — розовый и opsis — зрение). Первоначально он назывался «зрительным пурпуром», поскольку сетчатка розового цвета. Наши исследования оценил академик В.А. Энгельгардт, представивший в «Доклады Академии наук» нашу статью, а потом даже включивший наши слайды в свой юбилейный доклад.
После доклада В.А. Энгельгардта стало ясно — то, чем мы занимаемся, не очень-то соответствует профилю сугубо физиологического Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. Пришлось уходить. Нашу группу взяли к себе, в знаменитый Институт химической физики АН СССР, нобелевский лауреат академик Николай Николаевич Семенов и его ближайший ученик академик Николай Маркович Эмануэль, возглавлявший отдел кинетики химических и биологических процессов. Сегодня Институт химической физики РАН носит имя академика Н.Н. Семенова, а выделившийся из него Институт биохимической физики РАН — имя академика Н.М. Эмануэля.
Было огромным благом оказаться в легендарной Химфизике. Мы стали сотрудничать с физиками и химиками высочайшего класса. В институте развивались новые, уникальные методы исследования, и, что самое важное, в Химфизике билась живая творческая мысль. У нас появилась возможность использовать потенциал крупнейшего научного центра для исследований первичных механизмов зрения — такого не было ни в одном биологическом институте.
— Что нового вы внесли в понимание того, как происходит преобразование энергии кванта света, поглощенного светочувствительным родопсином, в физиологический сигнал?
— Сетчатка, выстилающая дно глазного бокала, состоит из нескольких слоев клеток: первый — зрительные клетки, которые содержат родопсин, за ними идут слои нервных клеток. Именно родопсин, поглотив квант света, запускает зрительный акт. В нервных клетках сетчатки идет сложнейшая обработка зрительной информации, которая затем по миллиону волокон зрительного нерва передается в мозг, где эта обработка продолжается, и в результате возникает субъективный зрительный образ внешнего мира.
Молекула родопсина состоит из белка и химически связанного с ним ретиналя — альдегида витамина А, который придает ей пурпурный цвет. Ретиналь в молекуле родопсина изогнут, как кочерга. Его выпрямление при поглощении кванта света и запускает процесс зрения. В химии эта реакция «выпрямления» называется фотоизомеризацией. В родопсине она, пожалуй, самая быстрая из всех известных на данный момент фотохимических реакций. Время фотоизомеризации ретиналя (выпрямления «кочерги») в молекуле родопсина — около 50 фемтосекунд, а одна фемтосекунда — это 10–15 секунды. Механизм реакции фотоизомеризации ретиналя в родопсине мы исследуем уже много лет совместно с учеными Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН на их уникальной по сложности и совершенству установке.
Зрительный родопсин — один из самых древних белков животного царства. Но кроме зрительного существует огромное разнообразие гораздо более древних родопсинов, возникших около трех миллиардов лет назад, практически одновременно с биосферой Земли. Это микробные, бактериальные родопсины, основная функция которых — примитивный фотосинтез. Мы с физиками провели подробное сравнение параметров реакции фотоизомеризации ретиналя у бактериородопсина и зрительного родопсина. Оказалось, что по скорости, эффективности и надежности запуска зрительного акта (фотоинформационного процесса) зрительный родопсин существенно превосходит бактериальный, осуществляющий фотосинтез — фотоэнергетический процесс. Это сугубо фундаментальное исследование, которое показывает, по каким именно фотохимическим параметрам зрительный родопсин в ходе миллионов лет эволюции стал идеальным «инструментом» запуска сложнейшего биохимического процесса возникновения в зрительной клетке биоэлектрического сигнала.
— В чем заключается описанный вами фотобиологический парадокс зрения?
— Парадокс в том, что свет — не только носитель зрительной информации, но и потенциально опасный повреждающий фактор. Родопсин — молекула однократного действия. После поглощения кванта света и запуска зрительного акта она разваливается: белковая часть остается в клетке, а «выпрямленный» ретиналь от белка отваливается и «уходит» из зрительной клетки. На его место приходит новый, «правильно изогнутый» ретиналь, который вновь соединяется с белком. Это нормальный физиологический процесс, обеспечивающий «темновую адаптацию» — это когда мы из яркого света переходим в темноту.
Но довольно часто не весь «выпрямленный» ретиналь возвращается к белку. По разным причинам он накапливается, соединяется еще с одной молекулой «выпрямленного» ретиналя и в конечном счете оказывается в липофусциновой грануле, которую называют «пигментом старости». К 80 годам эти гранулы у здорового человека могут занимать до 20–25 % объема клетки. До нас считалось, что «пигмент старости» — это инертный и безвредный шлак. В начале 1990-х гг. мы показали, что он крайне светочувствителен и токсичен. И это фактор риска для стареющей сетчатки, особенно при целом ряде глазных заболеваний, включая такое массовое и социально значимое, как возрастная макулярная дегенерация.
— Расскажите, пожалуйста, о вашей совместной работе со Святославом Федоровым, основателем МНТК «Микрохирургия глаза».
— Первоначально искусственные хрусталики — интраокулярные линзы, которые имплантируются в глаз после удаления помутневшего, катарактального хрусталика, изготавливались из плексигласа. Идея использовать его для изготовления линзы пришла в голову британскому офтальмологу Гарольду Ридли. Он извлек из глаза раненого военного летчика кусочек плексигласа, из которого тогда делали «фонарь» кабины пилота, и обнаружил, что кусочек этот не оброс клетками, остался прозрачным. Химики изготовили высокоочищенный вариант плексигласа — перспекс, Ридли выточил из него линзу, прикрепил к ней «ушки»-держатели, и получилась интраокулярная линза, которую он имплантировал в глаз пожилой пациентки. Однако перспекс прозрачен для ультрафиолета, и у пациентов часто возникали осложнения, в том числе отек сетчатки. Чтобы избежать этого, в перспекс ввели ультрафиолетовый светофильтр — абсорбер. Но осложнения все равно случались, потому что в сетчатке с возрастом накапливаются вещества, которые поглощают свет в фиолетово-синей области спектра и образуют токсичные активные формы кислорода. Значит, искусственный хрусталик должен отфильтровывать не только ультрафиолет, но частично и фиолетово-синий свет. Было известно, и мы это тоже показали, что с возрастом человеческий хрусталик, оставаясь вполне прозрачным, начинает желтеть, отсекая фиолетово-синие лучи и защищая сетчатку от опасности светового повреждения. Сама природа как бы «вставляет» перед сетчаткой желтый светофильтр. Искусственный хрусталик тоже должен быть желтоватым, подобно естественному хрусталику 50–55-летнего человека. В середине 1980-х гг. мы разработали такой хрусталик и предложили его офтальмологам — Святославу Федорову и Леониду Линнику в МНТК «Микрохирургия глаза». К 2005 г. было выполнено около миллиона имплантаций интраокулярных линз «Спектр», надежно защищающих сетчатку от опасности светового повреждения. Много позже американская корпорация Alcon стала выпускать желтоватые интраокулярные линзы с точно такими же спектральными характеристиками, но не жесткие из перспекса, а из мягкого материала.
Желтоватые интраокулярные линзы для защиты сетчатки от фотоповреждения показаны пожилым людям после удаления их собственного катарактального хрусталика, а также жителям южных регионов, особенно горных, где много ультрафиолета.
— Вы впервые в нашей стране инициировали исследования в области оптогенетики. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении.
— Оптогенетика — метод исследования работы клеток, основанный на внедрении в их мембрану ионных каналов, реагирующих на возбуждение светом. Эту технологию можно применить для возвращения зрения людям, потерявшим его в результате гибели светочувствительных зрительных клеток. Если следующие за зрительными нервные клетки сетчатки остаются здоровыми, то их можно сделать светочувствительными, «вставив» в них родопсин зеленой водоросли, который и есть светочувствительный ионный канал. В клетку доставляется при этом не сам родопсин, а его ген, который, уже будучи в клетке, производит родопсин. Став светочувствительными, нервные клетки при действии света возбуждаются и посылают информацию в мозг, который способен ее использовать благодаря своей уникальной пластичности. В 2021 г. группа швейцарских и французских ученых встроила в нервные клетки глаза слепого пациента модифицированный ген родопсина зеленой водоросли, и через какое-то время он смог увидеть отдельные предметы и белые полосы на пешеходном переходе. Это был большой успех, поскольку была показана принципиальная возможность частичного восстановления зрения с помощью оптогенетической технологии. Однако родопсин из водоросли имеет низкую светочувствительность. Поэтому пришлось создать специальный сложный усилитель в виде громоздких очков. Массовой эта технология стать не может.
Но родопсин сетчатки глаза человека и животных — это не ионный канал, как у водоросли, а триггер, запускающий в зрительной клетке мощный ферментативный каскад усиления светового сигнала. Использование гена зрительного родопсина позволило бы повысить светочувствительность слепой сетчатки во многие сотни раз. В нескольких лабораториях мира исследования пошли по этому пути. Эксперименты, в том числе и наши, показали, что технология, основанная на использовании зрительного родопсина, вполне успешно работает.
— Какое место, по вашему мнению, занимает российская наука о зрении в мировом контексте?
— Мощный импульс развитию физиологии зрения в нашей стране в XX веке дали два выдающихся ученых — президент АН СССР в 1945–1951 гг. академик С.И. Вавилов, возглавлявший знаменитый ГОИ — Государственный оптический институт, и академик Л. А. Орбели — один из основоположников эволюционной физиологии в России, ближайший ученик И.П. Павлова, защитивший докторскую диссертацию «Условные рефлексы глаза у собаки». Именно благодаря этим людям отечественная научная школа по физиологии зрения стала уважаемой во всем научном мире. Это касается исследований как первичных процессов зрения в сетчатке глаза, так и механизмов обработки информации в мозгу и формирования зрительного образа. К этим результатам большой интерес проявляют специалисты в области информационных технологий.
И сегодня, как мне представляется, российские исследования в области периферических и центральных механизмов зрения ведутся на достойном уровне.
Беседовала
Е. Понизовкина
Фотопортреты лауреатов —
С. Новиков


 Ru | En
Ru | En



 Ru | En
Ru | En

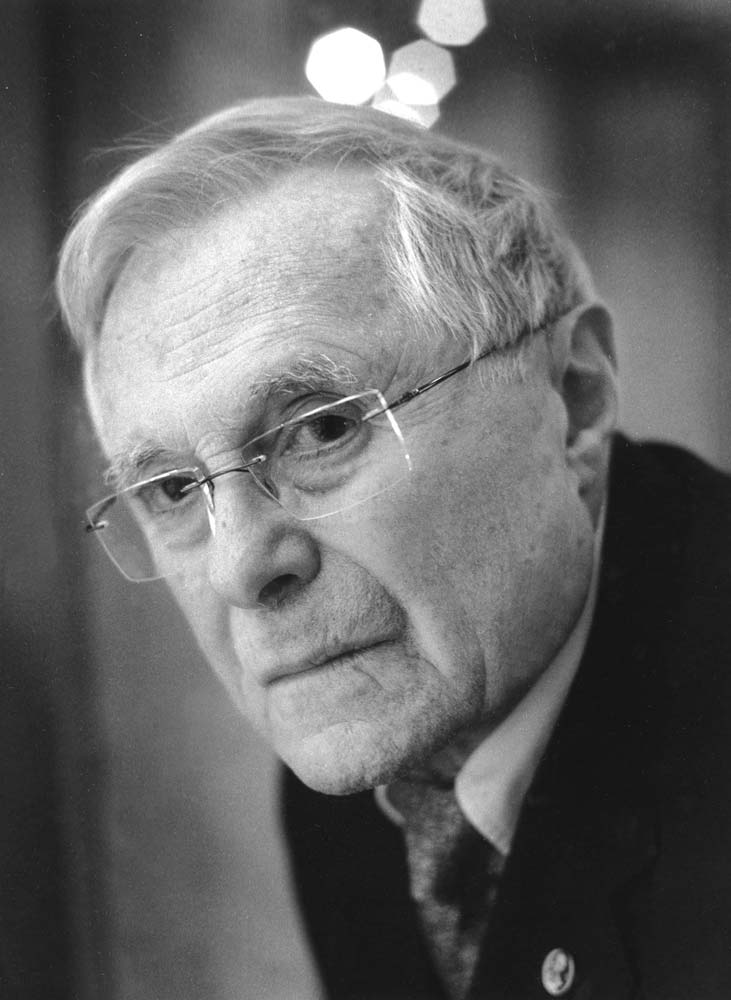 Демидовский лауреат в номинации «физиология» Михаил Островский родился в Ленинграде в семье музыканта легендарного джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова, будущего знаменитого композитора Аркадия Островского. Его песни «Пусть всегда будет солнце!», «Спят усталые игрушки», «Песня остается с человеком», «А у нас во дворе», «Вокализ» всем известны и всеми любимы. Михаил Аркадьевич Островский выбрал иное, не связанное с музыкальным искусством поприще, став выдающимся специалистом в области молекулярной физиологии и биофизики зрения, основателем научной школы.
Демидовский лауреат в номинации «физиология» Михаил Островский родился в Ленинграде в семье музыканта легендарного джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова, будущего знаменитого композитора Аркадия Островского. Его песни «Пусть всегда будет солнце!», «Спят усталые игрушки», «Песня остается с человеком», «А у нас во дворе», «Вокализ» всем известны и всеми любимы. Михаил Аркадьевич Островский выбрал иное, не связанное с музыкальным искусством поприще, став выдающимся специалистом в области молекулярной физиологии и биофизики зрения, основателем научной школы.