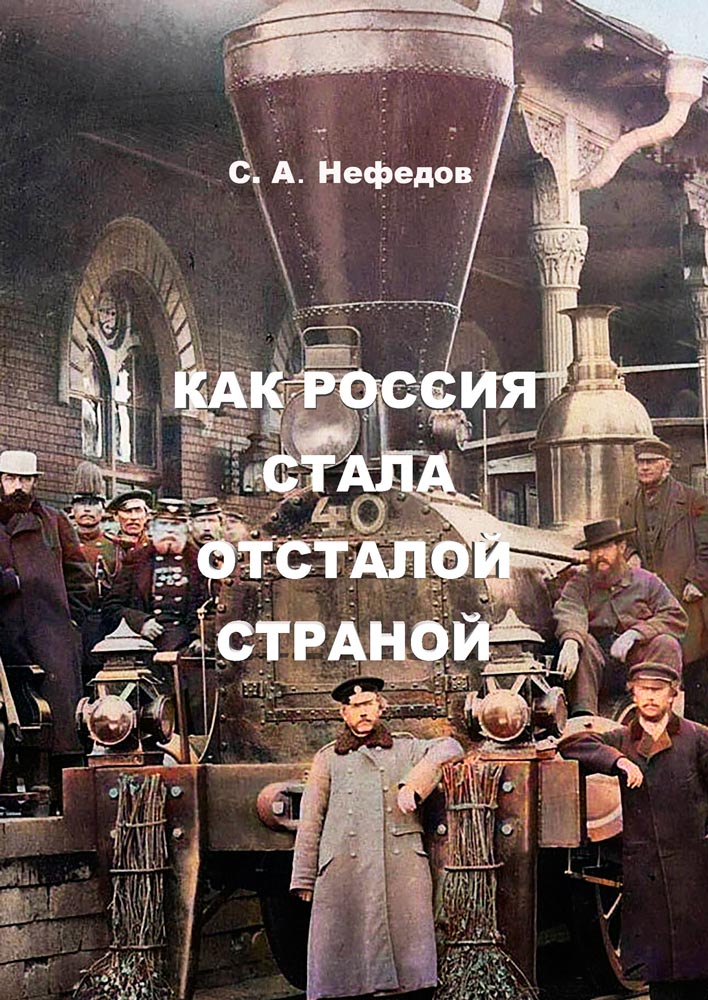 Не так давно в издательстве «Издательские решения» (Екатеринбург) вышла монография главного научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН, лауреата премии им. В.О. Ключевского РАН, доктора исторических наук С.А. Нефедова «Как Россия стала отсталой страной». В книге, адресованной как профессиональным историкам, так и широкому кругу читателей и уже привлекшей внимание и тех, и других, представлен новый взгляд на исторические процессы, приведшие в свое время к технологическому отставанию России. Предлагаем ответы автора на вопросы «Науки Урала» об этих проблемах.
Не так давно в издательстве «Издательские решения» (Екатеринбург) вышла монография главного научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН, лауреата премии им. В.О. Ключевского РАН, доктора исторических наук С.А. Нефедова «Как Россия стала отсталой страной». В книге, адресованной как профессиональным историкам, так и широкому кругу читателей и уже привлекшей внимание и тех, и других, представлен новый взгляд на исторические процессы, приведшие в свое время к технологическому отставанию России. Предлагаем ответы автора на вопросы «Науки Урала» об этих проблемах.
— Сергей Александрович, как возникла идея написать книгу о причинах промышленного отставания России в XIX веке? Почему именно этот исторический период оказался важным для исследования?
— Идея возникла в связи с предложенным академиком В. В. Алексеевым исследовательским проектом «Большие вызовы в истории имперской России (XVIII — начало XX в.)». Проблема вызовов, с которыми встретилась Россия сегодня, не нова, она не является специфической проблемой XXI века. Поэтому возникает задача анализа больших вызовов, которым на протяжении последних веков противостояло российское общество, и осмысления ответов, которые оно дало на эти вызовы.
Большим вызовом XIX века была промышленная революция, пришедшая в Россию с Запада и принесшая с собой целый комплекс проблем, которые требовали решения. Важнейшим компонентом этого вызова было военное давление западной цивилизации, и ответ подразумевал создание современной военной промышленности, что было невозможно без развития металлургии и машиностроения. Американский историк Стивен Коткин контрастно обозначил встававшие перед Россией альтернативы: «Либо в вашей стране будет современная сталелитейная и оружейная промышленность с необходимым для нее массовым образованием, наукой и всем, что их обеспечивает… либо к вам без спроса явятся те, у кого все это уже появилось».
В ходе Первой мировой войны выяснилось, что ответ России оказался неубедительным. Империя не выдержала столкновения с Западом. Почему это произошло, почему России не удалось догнать Запад в промышленном развитии? Книга — попытка ответить на этот вопрос.
— В чем новизна вашего подхода к проблеме? Чем он отличается от предыдущих исследований?
— В основе нового взгляда лежит новая методология — разработанный директором ИИиА УрО РАН, членом-корреспондентом И.В. Побережниковым акторный вариант теории модернизации. Эта методология позволила выявить группировки правящей элиты, которые препятствовали промышленному развитию. Исследование выполнено в рамках научного проекта «Регион в контексте российской истории: ландшафты и акторы (концептуально-методологические и источниковедческие аспекты)», реализуемого в нашем институте.
— В книге вы рассматриваете роль железных дорог как драйвера промышленного роста. Какие ключевые ошибки допустило российское правительство в этом направлении?
— В XIX веке движущей силой промышленного роста было железнодорожное строительство, которое требовало увеличения выплавки металлов и развития машиностроения. На Западе этот процесс происходил стихийно как результат деятельности частных компаний, мобилизовавших средства вкладчиков. Но в России главную роль играло государство, которое определяло, каким образом должны использоваться имеющиеся в стране капиталы. Эти капиталы были сосредоточены в государственных банках; российские банки имели на хранении средства большие, чем все банки Лондона. Император Николай I и министр финансов Канкрин использовали эти деньги для финансирования великодержавной политики, российская армия превосходила по численности объединенные армии Пруссии и Австрии. В конечном счете эти амбиции привели к Крымской войне, поглотившей остатки средств, которые могли бы использоваться для промышленного развития.
— Какую роль в отставании сыграла либеральная экономическая политика министра финансов, впоследствии председателя Комитета министров Российской империи М.Х. Рейтерна?
— После поражения в Крымской войне Россия была вынуждена снизить таможенные пошлины и открыть свой рынок для западных товаров. Многие отрасли отечественной промышленности не выдерживали конкуренции и приходили в упадок. Прежних капиталов в стране уже не было, и Рейтерн предложил программу железнодорожного строительства, основанную на привлечении западных акционеров. Железнодорожные компании получали концессии на строительство дорог, причем правительство давало гарантию 5-процентного дохода на акции и облигации. То есть в случае нерентабельности дороги оно доплачивало вкладчикам из своих средств. Эта схема использовалась, например, в Пруссии, но она требовала жесткого контроля за деятельностью компаний.
— Вы пишете о коррупции как важном факторе стагнации. Как это влияло на возможности развития отечественной промышленности?
— В отличие от Пруссии в России контроль практически отсутствовал. Компании представляли завышенные — иногда вдвое — сметы на строительство дорог, строили дороги на «живую нитку», всячески экономя на расходах, и получали за счет экономии огромные прибыли. Часть прибылей они отчисляли своим покровителям, благодаря которым и получали концессии и которые не позволяли наладить контроль за деятельностью компаний.
В число покровителей входили многие придворные чины и министры, как например, министр почт граф Толстой; особенно большие взятки получала фаворитка Александра II княжна Долгорукова. Размеры взяток исчислялись миллионами, лишь при строительстве одной дороги на Кавказе концессионер Поляков раздал взяток на 7 млн рублей. Для сравнения: Аляска была продана за 10 млн. Поляков был одним из непонятно откуда появившихся олигархов, «железнодорожных королей», через посредство которых высокие чины разворовывали деньги акционеров.
Между тем основным акционером было государство, акции и облигации компаний поступали в особый железнодорожный фонд, и взамен этих долговых обязательств компании получали живые деньги. А железнодорожный фонд выпускал «консолидированные облигации российских железных дорог», которые распространялись на Западе. То есть государство брало в долг деньги у западных вкладчиков, гарантируя им 5 % дохода, а затем эти деньги выдавались концессионерам и в значительной части разворовывались или шли на взятки высокопоставленным покровителям.
 — Чем российская промышленная политика отличалась от аналогичной политики западноевропейских стран?
— Чем российская промышленная политика отличалась от аналогичной политики западноевропейских стран?— Я говорил о том, что крымские победители навязали России свободную торговлю, правда, не во всех отраслях. В текстильной промышленности удалось сохранить высокие пошлины, и эти отрасли относительно успешно развивались. Но в тяжелой промышленности свободная торговля в сочетании с коррупцией привела к стагнации, хотя в принципе российские металлургические заводы были конкурентоспособными.
Дело в том, что уральская железная руда имела легирующие примеси, и рельсы из уральского железа были намного более прочными, чем английские. В нормальной рыночной экономике железнодорожные компании покупали бы уральские рельсы. Но в извращенной экономике концессионеры строили железные дороги «на живую нитку», они покупали самые дешевые английские рельсы и клали экономию себе в карман. Построенные таким образом дороги приходилось постоянно ремонтировать, они не давали прибыли, и государство было вынуждено доплачивать по 5-процентной гарантии. Эти доплаты суммировались с прежними долгами компаний железнодорожному фонду, долги увеличивались и становились неоплатными. По условиям концессий железные дороги нельзя было просто конфисковать, и в 1890-е годы они были выкуплены государством. Олигархи не только не вернули наворованное, но и получили дополнительную прибыль.
— В книге упоминается «железнодорожная мания» на Западе. Почему в России она не привела к такому же экономическому подъему?
— «Железнодорожная мания» вызвала бы отток денег из государственных банков. Как отмечалось выше, Канкрин не допускал такого оттока; эти деньги были нужны на военные расходы. После Крымской войны, в 1857–1859 гг. «железнодорожная мания» имела место; в условиях свободной торговли и коррупции эти средства ушли на закупку железнодорожного оборудования на Западе.
Отток средств продолжался до 1887 г. Несмотря на преимущества российских рельсов, российская тяжелая промышленность стагнировала. Но в 1887 г. новый министр финансов И.А. Вышнеградский стал проводить протекционистскую политику, таможенные пошлины были резко повышены. Компании были вынуждены покупать железнодорожное оборудование в России, и начался бурный экономический подъем. В 1890-е гг. темпы роста российской промышленности были самыми высокими в мире, но время было упущено, и догнать Запад не удалось.
— Какие уроки может извлечь современная Россия из анализа экономических проблем XIX века?
— Первый урок заключается в том, что великодержавные амбиции и огромные военные расходы губительно отражаются на развитии промышленности. При этом больше всего страдают передовые отрасли, так как власти не могут своевременно оценить перспективность их развития. Второй урок — это губительная роль коррупции, которая в условиях либерализации способна деформировать рыночные отношения.
— Какие параллели можно провести между ситуацией в XIX веке и экономическими вызовами, стоящими перед Россией сегодня? Планируете ли вы дальнейшие исследования по этой теме?
— Параллели, на мой взгляд, очевидны. Николай I, как и правители позднего СССР, расстроил экономику в погоне за великодержавностью. Затем последовало поражение в Крымской войне — и соответственно в «холодной» войне. Начались либеральные реформы, которые в условиях чудовищной коррупции привели к гибели многих отраслей промышленности. Откуда-то появились олигархи, строившие виллы в Ницце. Но затем власти в силу обстоятельств были вынуждены вернуться к протекционизму. История повторяется.
Что касается дальнейших исследований, то необходимо оценить реакцию историков и экономистов на эту книгу и проводимые в ней параллели. Поживем — увидим.
Вел беседу
Вадим Мельников


 Ru | En
Ru | En



 Ru | En
Ru | En

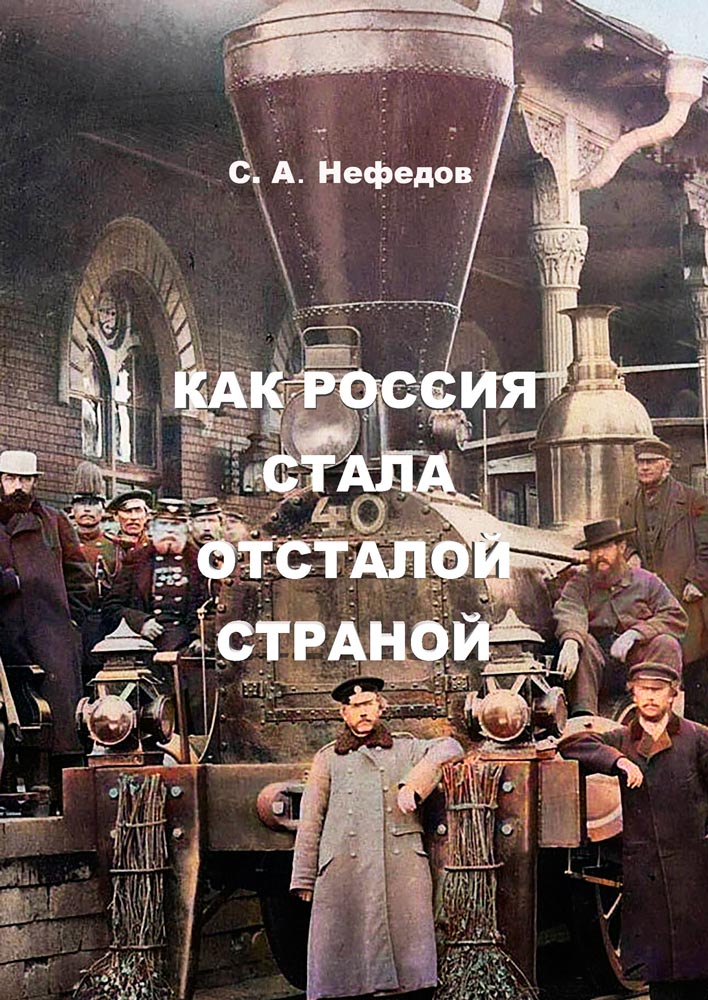 Не так давно в издательстве «Издательские решения» (Екатеринбург) вышла монография главного научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН, лауреата премии им. В.О. Ключевского РАН, доктора исторических наук С.А. Нефедова «Как Россия стала отсталой страной». В книге, адресованной как профессиональным историкам, так и широкому кругу читателей и уже привлекшей внимание и тех, и других, представлен новый взгляд на исторические процессы, приведшие в свое время к технологическому отставанию России. Предлагаем ответы автора на вопросы «Науки Урала» об этих проблемах.
Не так давно в издательстве «Издательские решения» (Екатеринбург) вышла монография главного научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН, лауреата премии им. В.О. Ключевского РАН, доктора исторических наук С.А. Нефедова «Как Россия стала отсталой страной». В книге, адресованной как профессиональным историкам, так и широкому кругу читателей и уже привлекшей внимание и тех, и других, представлен новый взгляд на исторические процессы, приведшие в свое время к технологическому отставанию России. Предлагаем ответы автора на вопросы «Науки Урала» об этих проблемах. — Чем российская промышленная политика отличалась от аналогичной политики западноевропейских стран?
— Чем российская промышленная политика отличалась от аналогичной политики западноевропейских стран?